- 27 августа 2023
- 13:53

Этнограф Владислав Грушакевич рассказал о том, какие тайны раскрываются в этноэкспедициях.
Аспирант Центрального университета национальностей в Пекине Владислав Грушакевич ездит по труднодоступным районам Забайкалья и изучает традиции российских эвенков. До этого на протяжении нескольких лет он исследовал образ жизни и культуру эвенков Китая. О том, как простой парень из Белоруссии «заболел» этнографией, увидев красавицу эвенку на фото, и как сейчас, в XXI веке, проходят этноэкспедиции, Владислав рассказал «КМНСОЮЗ-NEWS».
– Владислав, расскажите, пожалуйста, как вы увлеклись этнологией и этнографией? Чем вас привлекли культура, традиции и язык эвенков?
– Этнографией я увлекся почти случайно. Обучаясь в китайской магистратуре по специальности «Китайская философия», я использовал в своей диссертации фольклорную теорию Проппа. Его книга «Исторические корни волшебной сказки» перевернула мои представления о фольклоре. Однажды научный руководитель, глядя на мою диссертацию, сказал фразу, с которой для меня все по-настоящему началось: «У вас тут как-то очень много этнографии». До этого я ни о какой этнографии даже не думал.
Два года спустя, когда я уже окончил магистратуру и искал возможность продолжить образование в Китае по философии, мне на глаза попалось предложение Центрального университета национальностей (это лучший китайский университет в области этнографии) о наборе на факультет этнографии. В этот момент у меня внутри все словно бы стало на место. Я вспомнил сказанное профессором, почувствовал, что этнография – это именно то, чем я действительно хочу заниматься, отправил заявку и был принят.
Эвенков же я выбрал следующим образом: уже отправив заявку на обучение, я рассматривал фотографии известного этнофотографа Александра Химушина. Среди них мне попались фотопортреты эвенков, эвенов и орочонов. Я принялся разбираться, что это за группа народов, и мне стало интересно, как можно оторваться от всех привычных вариантов организации жизни, не являться ни земледельцем, ни кочевником-скотоводом, ни рыбаком, находиться в постоянном движении и под постоянной опасностью смерти от голода или мороза, в столь многом зависеть от удачи и быть… Свободным. Такой уклад жизни показался мне благородным.

Фото Александра Химушина
Мне стало интересно, как можно оторваться от всех привычных вариантов организации жизни, столь многом зависеть от удачи и быть… Свободным.
Наконец, возвращаясь к фотографиям… Среди них было фото девушки эвенки. Меня поразили ее красота, а главное, сложное выражение больших карих глаз. По правде говоря, в тот момент я немножко влюбился, и, хотя эвены в Китае не живут, мой интерес к народам северно-тунгусской группы в тот момент стал окончательно оформленным.
– У вас есть какое-то задание от научного учреждения или же вы выбираете маршрут и героев самостоятельно?
– Университет дает мне практически полную свободу в выборе информантов, мест и методов исследования. Единственное: в Китае эвенки и орочоны считаются двумя отдельными народами (в России орочоны считаются подгруппой эвенков), поэтому мне было запрещено включать орочонов в свою работу. Впрочем, как я впоследствии понял, это тоже было к лучшему – иначе бы я просто не справился с объемом работы.
Формально целью моих экспедиций (сейчас я нахожусь в четвертой) является сбор волшебных сказок и обрядности, которая может иметь связь с хорошо объясненной Проппом и Фрейдом концепцией превращения душ умерших людей в животных, а убиваемых охотниками животных – в людей.
Однако мои исследования давно вышли за рамки этой узкой темы. Я собираю все, что связано с духовностью эвенков: что-то идет в диссертацию (например, охотничьи истории китайских эвенков о мести лис охотникам), на основании чего-то я пишу статьи (одна из них, посвященная религии эвенков-солонов, вышла в последнем номере журнала «Северные архивы и экспедиции», вторая уже направлена в редакцию, а третья, об эвенках-хамныганах, пока только задумана), что-то я оформляю в виде поста для своей группы «ВКонтакте» (группа называется «Эвенкийские разыскания»). Самая же большая часть материалов записывается мною в полевой дневник, который я по окончании аспирантуры хочу издать в виде книги (он уже приближается по размерам к «Трем мушкетерам», в него будут включены выжимки информации из около сотни собранных мною интервью, в том числе из нескольких с шаманами).
– Как вы находите информантов? Все ли соглашаются общаться?
– Иногда мне разными путями удается получить имя и телефон кого-то из информантов еще до приезда на место работы. Однако чаще всего я просто отправляюсь в выбранную деревню и начинаю ее осматривать. Местным жителям рано или поздно становится любопытно, кто к ним прибыл. У нас завязывается разговор, в ходе которого люди сами подсказывают мне, с кем было бы лучше пообщаться по той или иной теме. Далее в конце беседы я спрашиваю, кого бы еще мне стоило расспросить, и меня направляют к следующему информанту.
Информанты отказываются от общения редко. Чаще всего за этим стоит известная стеснительность эвенков или какие-то очень специфические причины.
Обычно я веду беседу по опроснику из почти двух сотен вопросов по нескольким темам (родильная обрядность, свадебная обрядность, похороны, шаманизм, божества и так далее). Те группы вопросов, которые оказываются по каким-то причинам неуместными, я отбрасываю на ходу и нахожу для них других информантов.
Беседу я стараюсь начать с разговора о предках информанта: во-первых, людям часто нравится рассказывать о своих дедушках и бабушках, представители коренных народов обычно гордятся ими. Это настраивает информанта на то, чтобы и дальше делиться информацией. К тому же так можно узнать много того, о чем, следуя опроснику, я бы не спросил, но что стоит узнавать.
Затем я задаю простые вопросы: о том месте, где мы находимся, об обычной жизни и быте. Только после этого я берусь спрашивать о духах, обрядах и тому подобных вещах. После окончания беседы я оставляю информанту какой-нибудь подарок или иногда отправляю что-нибудь в благодарность по почте. Так, месяц назад я отправил очень помогшему мне эвенку-хамныгану шесть бутылок хорошего кваса.
Если информант сам желает рассказать что-то помимо ответа на вопрос, то я никогда его не останавливаю. Собственно, это в моем понимании и есть высокий пилотаж этнографического интервью: сделать так, чтобы человек сам хотел рассказывать нужное вам. Здесь начинается очень сложная работа с собственными и информанта чувствами, мотивами, взглядами на жизнь…
Мои информанты чаще всего живут в деревнях или поселках городского типа. С одной стороны, в городах эвенков вообще мало, с другой стороны, чем меньше населенный пункт, тем легче находить в нем информантов.
Чаще всего я общаюсь с людьми старше пятидесяти лет, которые помнят о прежних временах и больше, чем молодежь, интересуются вопросами духовности. Обычно это пенсионеры, некоторые из них кроме домашнего хозяйства занимаются традиционными ремеслами. С людьми, ведущими в полном смысле слова традиционный образ жизни, мне доводится встречаться редко.

Этнограф не должен даже завуалированно пытаться подлавливать собеседника.
– Чаще всего вам рассказывают об обрядах или о персонажах фольклора на русском или эвенкийском?
– В России разговоры со всеми эвенками я вел на русском (к сожалению, я не успел освоить эвенкийский язык, знаю только пару слов). Некоторые записи я отправляю на сверку. Когда разговор идет о вещах, которые могут скомпрометировать информанта или даже представлять для него опасность, я всегда спрашиваю, можно ли эту информацию публиковать. Некоторые услышанные вещи я не доверяю даже дневнику.
Нельзя задавать вопросы, которые способны унизить достоинство информанта. Этим этнографическое интервью в корне отличается от журналистики а-ля Дудь: этнограф не должен даже завуалированно пытаться подлавливать собеседника, ставить его в нелепые положения, вызывать на эмоции или, уходя, оставлять раздавленным. Для того чтобы беречь информанта, у этнографа есть множество как этических, так и чисто практических причин. Например, от российских эвенков я слышал об ученом, который пытался изучать алкоголизм в среде орочонов. Говорят, он «попал в бан» у своих потенциальных информантов.
– Бывает ли, что ваши собеседники ошибаются?
– Да, бывает. Чаще всего это вызвано тем, что к ним в руки до интервью попадает некачественная литература (чаще всего это безграмотный исторический научпоп). Иногда они пытаются сами объяснить, например, происхождение некоторых слов, и приходят к неверным выводам.
– Какие уникальные факты, ранее не описанные в научной литературе, вы смогли узнать от информантов?
– Таких фактов много. Например, буквально пару недель назад я узнал о кострах, которые эвенки Забайкалья разжигают во время похорон. Такие костры остаются гореть на ночь. Эвенки приходят к ним перед рассветом и смотрят, след какого зверя или птицы угадывается в пепле – так они определяют, в какое животное превратилась душа умершего. Очень плохо, если в пепле обнаруживается след человека (по другой версии – медведя) – это значит, что покойник заберет с собой еще кого-то из живых людей. Кроме того, животное-душа становится хозяином местности. Эвенки рассказывали мне несколько историй о людях, которые убивали хозяев – такие охотники сходили с ума или гибли. Согласно же информации, которую я буду проверять буквально через несколько дней, животных этого вида родственники умершего не должны затем убивать вообще.
– Чем культура и традиции эвенков России отличаются от тех, что приняты у эвенков Китая?
– В Китае есть три группы эвенков, культура каждой из которых имеет разную степень сходства с культурой эвенков России. Так, культура и религия эвенков Аолугуи (самая северная группа, оленеводы, их осталось, по разным данным, от 200 до 700 человек), почти ничем не отличается от культуры эвенков России. Их язык легко понятен последним, в прошлом они также практиковали медвежий обряд, знали духов Сэвэки, Малу и так далее.
Культура и религия эвенков-хамныганов (это тоже очень небольшая группа, которая живет недалеко от границ Забайкалья), с одной стороны, сильно отличается от культуры эвенков России, с другой стороны, в ней присутствует множество русских заимствований. Так, эти эвенки по сей день устанавливают на могилах кресты с крышами, используют в речи некоторые русские слова (например, самокатка – велосипед, булка – хлеб, капка – капкан, мосты – мост), ставят в домах красные углы с иконами, красят яйца на Пасху.
Наконец, наиболее многочисленная группа китайских эвенков – солоны – сильно отличается от эвенков России почти во всем (они покинули Россию еще в ХVII веке, спасаясь от первых землепроходческих отрядов). Эти эвенки не похожи на российских в языковом плане. Кроме того, солоны разделены на эвенков, которые ныне занимаются земледелием (к востоку от Большого Хингана – этот вид деятельности исторически чужд эвенкам и переход к нему являлся вынужденным), и на тех, которые занимаются скотоводством (к западу от Большого Хингана). Имевшееся у них мелкое загонное оленеводство было ориентировано на выращивание пантов (такое оленеводство, однако, прекратило свое существование еще в 80-е годы из-за введения новых природоохранных законов). Обе эти группы строят свою религиозную практику вокруг поклонения каменным кладкам обо, что почти не встречается у эвенков России. В их религии присутствует много даурских (вместилища духов Баркены) и ханьских (культ Лисьего Святого) заимствований. В целом, солоны обычно стремятся к союзническим отношениям с более многочисленными даурами (вместе с этим народом монгольской группы они когда-то покинули Россию).

Обряды имели очень ясную психологическую основу, которая держалась на родовой структуре общества.
– Приходилось ли вам принимать участие в обрядах?
– Да, совсем недавно я участвовал в обряде кормления огня под названием Имты. Я выступал в роли благословляемого. Как и другие участники, я окуривался дымом багульника, давал пищу огню и разбрызгивал молоко для бога Экшери.
– Как сейчас, в XXI веке, проводятся обряды? Есть ли какие-нибудь ключевые отличия от того, как проводились обряды, например, в XIX веке?
– Иным стало назначение многих коллективных обрядов. Ранее обряды имели очень ясную психологическую основу, которая держалась на родовой структуре общества (об этом хорошо, хотя и неполно написано, например, у Фрейда в «Тотем и табу», или, если говорить об эвенках, то у Анисимова – в книге «Религия эвенков в историко-генетическом изучении»). С уходом в прошлое кросс-кузенных и им подобных брачных систем многие ритуалы (например, медвежий праздник эвенков) потеряли свой изначальный смысл. Теперь они служат для консолидации коренных сообществ, что, конечно, актуально в нынешнем мире, но оставляет под угрозой существование самих этих обрядов – в их деталях уже нет изначальной естественности.
– С развитием интернета сохранится ли необходимость в этнографических экспедициях или можно будет проводить интервью по видеосвязи из любой точки мира?
– Интернет намного меньше повлиял на работу этнографов, чем может показаться. И мои, и моих товарищей попытки брать развернутые интервью через интернет заканчивались почти ничем. Это было вызвано несколькими причинами. Во-первых, пожилые люди часто не умеют пользоваться интернетом или же не могут быстро набирать большие объемы текста. Во-вторых, человек, который находится за тридевять земель, – это просто человек за тридевять земель (даже если он задает связанные с вашим народом вопросы). Информант не воспринимает его ни как гостя, ни как соседа, ни как товарища (например, по сбору ягод), и установить нужный для серьезного интервью психологический контакт только лишь через интернет оказывается практически невозможно (если только информант сам не имеет очень сильной мотивации для выхода на связь). Насколько мне доводилось видеть, чаще всего информант просто прекращает разговор минут через двадцать и больше к нему не возвращается.
С другой стороны, «интернет-этнография» существует, но и задачи она решает не те, которые решаются обычной этнографией.

Более серьезными стали и требования к личности, статусу и даже собственной судьбе этнографа.
– Что еще не описано, что еще не рассказано и не осмыслено?
– Этнография XXI века предъявляет к этнографу более серьезные требования прежде всего по части теоретической подготовки. Многое уже было собрано и обработано предыдущими поколениями этнографов. Однако, к примеру, очень большая часть материалов по тем же эвенкам никогда не обрабатывалась с использованием фольклорных, этнологических, психологических и других теорий.
Кроме того, более серьезными стали и требования к личности, статусу и даже собственной судьбе этнографа. Когда некоторые из информантов могут иметь равные с этнографом технические возможности или уровень образования, то этнограф должен еще и быть способным убедить информанта в том, что он может принести пользу ему и его народу, это должно иметь объективные основания.
Наконец, вопреки расхожему мнению о том, что духи, обряды и другие элементы духовности пришли к нам из глубокой древности, на деле они могут претерпевать изменения и под действием факторов нынешней реальности. Например, западные солоны заменили одного из своих духов китайским драконом. Вероятнее всего, такая замена случилась из-за появления на их территории буддистского храма, монахи которого во время ритуалов также обращались и к дракону. Дух Банеча, который упоминался Широкогоровым в начале ХХ века лишь вскользь, за последнюю сотню лет стал главным божеством восточных солонов и, будучи изначально духом гор и охоты, принял на себя функции подателя дождей. Таким образом, вещи, которые были исследованы сто или даже пятьдесят лет назад, начинают нуждаться в повторных исследованиях.
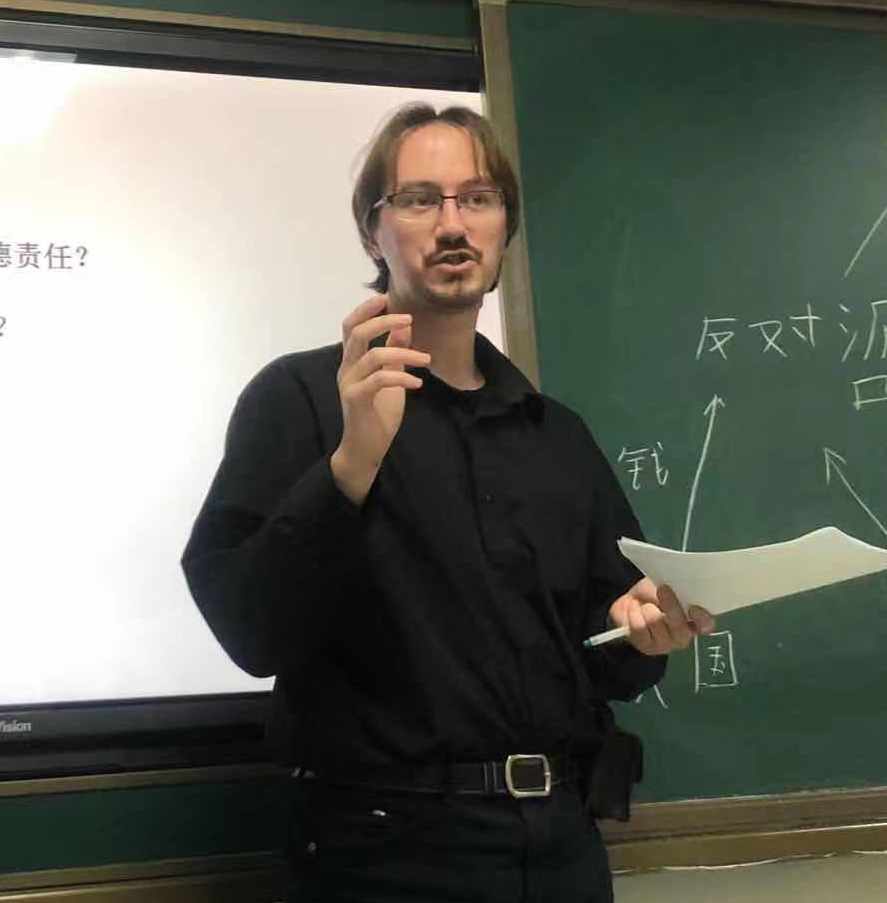
Там, где начинается серьезная научная работа, ученый из коренного народа и, например, русский оказываются в почти равных условиях.
– В последние десятилетия национальное движение переживает подъем, растет интерес к своим корням, и среди самих представителей коренных малочисленных народов появляется множество исследователей, которые знают язык, они с детства погружены в культуру и традиции своего народа. И они также выезжают в экспедиции, опрашивают своих соплеменников, публикуют материалы, в том числе и в научных изданиях. Не боитесь, что вы скоро останетесь без работы?
– Нет, совершенно не боюсь. Конечно, среди представителей коренных народов есть хорошие ученые (например, пожилая эвенкийка, известная под именем Калина, которая работает при нашем университете – как раз за счет принадлежности к эвенкам ей удалось собрать и обработать очень много уникальных данных). Однако принадлежность к исследуемому народу часто играет с исследователем дурную шутку (там, где я учусь, исследовать свой собственный народ вообще запрещается, хотя это правило и нарушают).
В конечном счете, там, где начинается серьезная научная работа, ученый из коренного народа и, например, русский оказываются в почти равных условиях – им обоим приходится прилагать массу усилий для развития, и эта масса все равно оказывается намного больше, чем то, что человек способен вынести из своих детства и юности в «коренных» условиях.
– Расскажите, пожалуйста, о ваших планах, в какие экспедиции вы планируете отправиться, что хотите исследовать?
– Пока что я только начинаю полевые исследования среди эвенков России, и передо мной стоит фронт работ как минимум на несколько лет вперед. Опять же, обрядность эвенков почти не изучалась с применением этнологических и психологических теорий, и тут есть огромный простор для деятельности. Кроме того, эвенки-солоны и китайские эвенки-хамныганы почти не исследовались отечественной наукой, по ним очень мало публикаций на русском языке. Наконец, эвенки России и отчасти Китая имеют желание к установлению связей со своими сородичами по другую сторону границы, но в этом направлении еще почти ничего не сделано – мне часто доводится играть роль посредника для установления связей.
Справка «КМНСОЮЗ-NEWS»
ФИО: Грушакевич Владислав Чеславович
Деятельность: этнограф, аспирант Центрального университета национальностей (г. Пекин)
Читайте также:
Подпишитесь на дайджест новостей
Не пропустите важные события!


